Низами Гянджеви Искандер Наме
«В РАВНОВЕСЬЕ ПРИВЕЛ ОН ЗЕМНЫЕ ДЕЛА.» НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ. ИСКЕНДЕР-НАМЕ Полное имя великого поэта - Абу Мухаммед Ильяс Ибн-Юсуф Низами Гянджеви. Ильяс - личное имя, Юсуф - имя отца, Низами - литературный псевдоним поэта («нисба»), обязательный в традиции и избираемый поэтом как знак, говорящее имя. «Низами» означает «вышивальщик», и средневековые комментаторы поэзии объясняют это имя как указание на профессию семьи Низами, от которой он отказался, но сохранил память об этом ремесле, трудясь над своими поэмами с тщательностью вышивальщика. Прозвище «Гянджеви» указывает на происхождение поэта. Он родился в Гяндже (Азербайджан) и провел в родном городе всю жизнь (ок. 1141 - около 1209).
Низами считал поэму 'Искандер-наме' итогом своего творчества, по сравнению с другими.
Тем самым он - первый азербайджанский поэт. Мавзолей Низами в Гяндже сохранился до наших дней. Низами - автор «Пятерицы» («Хамсе»), пяти больших поэм («масневи»): «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искендер-наме» («Книга Александра»), а также многочисленных лирических стихотворений (касыд, газелей, кытъа и рубаи). Номинально он - средневековый персидский поэт, так как его поэмы написаны на фарси. Но, к примеру, Абулькасим Фирдоуси, автор («Книги Царей»), Джелаледдин Руми или Омар Хайям также являются персидскими поэтами, а характер, смысл и значение их творчества - совершенно иные. И почему именно поэзия Низами объединяет Персию (Иран), Азербайджан, Грузию, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и Индию? Искендер на охоте.
Персидская миниатюра Низами - поэт, создавший новый эпический стиль, обычно определяемый как героико-романтический. По сравнению с героической суровостью Фирдоуси (X-XI вв.) это новый эпос, допускающий лирические отступления, разговорную речь, авторские комментарии и даже иронию.
Это эпос высокого Средневековья. В этом отношении Низами вполне уместно сопоставить с его западным младшим современником - Вольфрамом фон Эшенбахом (ок.
А в основе своей это свободный голос поэта, одухотворяющий старые сюжеты, покоряющий читателя своей силой и грацией и своим поэтическим синтезом создающий новую литературную норму. Итак, Низами для Ирана и Азербайджана - а особенно для Азербайджана как культурного региона, находившегося тогда в активном становлении - то же, что Чосер для Англии, Пушкин для России. Но поскольку конкретные культурные формы удивительно разнообразны, говоря о Низами, мы должны учитывать, что все рассмотренные универсальные особенности реализуются в рамках крайне своеобразного стиля, принятого в традиции, которой следовал Низами. Это стиль западной (или азербайджанской, или же тебризской) школы персидской поэзии.
Он отличается крайней сложностью, перекрестной метафоричностью, философско-символическим подтекстом и (что немаловажно) использованию образов, взятых из христианской традиции. Смысл зашифровывается, как тайная переписка.
Приветствуются метафоры из области математики и естественных наук. В целом всё выглядит как крайне изощренный формализм, плетение словес и образов, не только подобное художественному ремеслу, но представляющее собой один из его видов. Низами в оригинале и даже подстрочнике куда сложнее «витой» поэзии скальдов, толкованию его метафор посвящены целые труды. Представим себе двустишие или даже целый поэтический период, уподобляющий некий факт извлечению квадратного корня - и это не шутка, а реальный пример. Живой авторский голос в таких условиях может звучать лишь чудом. И конечно же, не будем забывать, что поэмы Низами стали доступными на русском языке благодаря самоотверженному труду переводчиков 30-х-40-х годов XX.
Липскерова, В. Державина, Т. Стрешневой и основам толкования текста, заложенным акад. Бертельсом (1890 - 1957). Но почему же Низами со своим развитым авторским сознанием, полным владением стихом и тенденцией к новаторству не отказался от сверхсложного метафорико-символического стиля?
Потому, что он действительно был символистом, а не только эпиком-романтиком. Низами Гянджеви - философ, мистик, последователь суфизма. Его часто называют «Хаким» - «Мудрец», и чтобы убедиться в высоте его духа, достаточно прочесть поэму «Сокровищница тайн» или хотя бы вспомнить заключительный эпизод из поэмы «Семь красавиц».
Неправедный визирь без ведома шаха Бахрама держит в тюрьме семерых невиновных, которые предстают перед шахом лишь благодаря тайной непрестанной молитве седьмого узника - старца-дервиша («Ниспроверг величье князя я мольбой своей //»). Выслушав жалобы узников, шах отпускает их на свободу, а старцу предлагает награду, от которой тот отказывается, призывая шаха к духовному изменению: Мавзолей Низами в Гяндже Но сказал дервиш: «Что делать стану я с казной?
Сокровищем ценнейшим поделись со мной, Как с тобою поделился лучшим я!» И вот Круг он сделал, закружился, словно небосвод, Заплясал. Хоть бубен такта и не отбивал, - И пропал. Растаял, словно вовсе не бывал.
И знаменитые «семь красавиц», семь жен шаха Бахрама, царевны из разных стран, облаченные в разные цвета - символы семи планет. Впрочем, поэзия Низхами эзотерична: кому - семь девушек, кому - семь планет. Но в любом случае как по развернутым высказываниям, так и по отдельным репликам в поэмах ясно, что сам поэт глубоко чтил Бога, молился и стремился к очищению сердца путем духовной аскезы. Принято говорить, что о Низами известно мало. И действительно, подробной биографии и тем более автобиографии до нас не дошло. Зато автобиографических деталей в поэмах - множество.
И тот, кто читает и чтит Низами, знает о нем много. Отец поэта, Юсуф ибн Заки, переселился в Гянджу из Кума (Центральный Иран), а мать, Ра'иса, была курдянкой. Отец рано умер, Ильяса воспитывала мать, затем умерла и она, и будущий поэт остался на попечении дяди (брата матери), Ходжи Умара. По упоминанию знака Льва и других временных ориентиров в поэме «Хосров и Ширин» установлено, что Ильяс ибн-Юсуф родился между 17 и 22 августа 1141 года.
Гянджа, к которой Низами был так привержен, была поистине сокровищницей материальной и духовной культуры («гянджэ» по-азербайджански означает «клад, сокровище, место хранения урожая»). Низами получил блестящее образование и даже среди тогдашних поэтов-философов выделялся своей ученостью. За два года до рождения Низами, 25 сентября 1139 г., в Гяндже произошло страшное землетрясение, город был разрушен и впоследствии перенесен в другое место, семью километрами дальше, а в окрестностях образовался целый ряд озер (Гёйгёль и др.). Это событие Низами обсуждает в своих поэмах.
Ильяс ибн-Юсуф был женат трижды, все три раза - по любви, и все три жены умерли раньше него. До нас дошло горестное восклицание поэта: «Боже, почему за каждую поэму я должен пожертвовать женой?» Известна история любви Ильяса и тюрчанки (половчанки) Афак (ее имя означает «Белая, Светлая»). Афак была рабыней правителя Дербента Дара Музаффарр ад-Дина, который подарил ее Низами - очевидно, желая «убить двух зайцев»: и наградить поэта без лишних затрат, и избавиться от строптивой, не слишком любимой невольницы. Это было примерно в 1170 году.
Низами, получив «Светлану»-Афак в подарок, освободил ее и женился на ней по взаимной любви. Около 1174 г. У них родился сын Мухаммед. Дата смерти Низами точно не известна: данные средневековых биографов расходятся примерно на тридцать семь лет (1180 - 1217 гг.). Сейчас установлено, что Низами скончался в начале XIII. Датировка смерти Низами 605 годом хиджры (1208/1209 гг.) основана на арабской надписи из Гянджи, опубликованной акад. Другое мнение основано на тексте поэмы «Искендер-наме»: кто-то из близких Низами, возможно, его сын, описал смерть поэта и включил эти строки во вторую книгу об Искандере, в главу, посвящённую смерти античных философов - Платона (Ифлатуна), Сократа и Аристотеля.
В этом описании указан возраст автора по мусульманскому календарю, что соответствует дате смерти в 598 году хиджры (1201/1202 гг.). А что же он делал всю жизнь, от рождения в Гяндже до кончины в Гяндже? - Писал стихи.
В Советском Союзе, и прежде всего на родине Низами - в Азербайджане, отмечалось 1000-летие со дня рождения поэта. В Баку был создан музей Низами (ныне Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви), вышли новые переводы поэм в прекрасных изданиях, создавались картины, произведения декоративно-прикладного искусства, посвященные Низами (ковры, ларцы, блюда). Был организован конкурс живописцев на лучший портрет Низами - точнее, образец портрета Низами для дальнейших художников, поскольку ни одного прижизненного изображения поэта до нас не дошло. И в соответствии с веяниями времени была вскрыта могила Низами в Гяндже (это произошло еще до знаменитого вскрытия гробницы Тимура в Гур-Эмире 21 июня 1941 г.).
Оттуда извлекли погребальный плат, который сейчас лежит в одной из витрин бакинского Музея азербайджанской литературы им. Низами: темно-синяя ткань (темно-синий - цвет траура в мусульманской традиции) в тонкую красновато-желтую полоску.
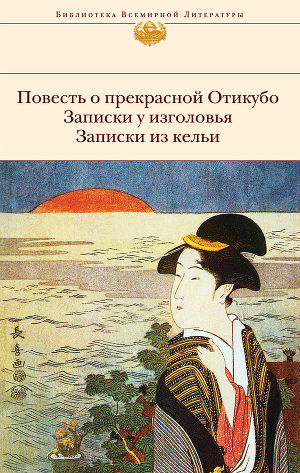
Даже этот скромный, печальный лоскут отличается большим изяществом: такова была эпоха. Врата Гянджи, захваченные грузинским царем и ныне хранящиеся во дворе Гелатского монастыря «Пятерица» Низами - целый мир, и для того, чтобы проследить тему царской власти во всех поэмах, потребовалось бы большое исследование.
Обратимся к одной поэме - «Искендер-наме», «Книге Александра», привлекая лишь отдельные примеры из других поэм. Исключительный интерес к Александру Македонскому во всех уголках средневекового мира не требует пояснений, равно как и то, что даже в мифологии исторических противников Александра - персов - эта фигура утратила отрицательные черты, которыми наделялась вначале. Соответственно, Александр для Низами - великий герой и достославный правитель.
Но идея царской власти у Низами представляет собой многогранную проблему. В исследованиях обычно указывается, что концепции царской власти у двух великих эпиков - Фирдоуси и Низами - были разными. И действительно, в отличие от Фирдоуси, по традиции убежденного в богоустановленной, сакральной природе царской власти и избранного царского рода , Низами уже не мыслил категориями, восходяшими к эпохе великой державы Сасанидов (III - VII вв. Ведь в Иране и Азербайджане XII. Давно уже угас ореол иранской зороастрийской мифологии (разрушение капищ огнепоклонников - по Низами, одно из первых деяний Александра, взошедшего на престол иранских царей). Да и идея единой власти и единственной династии при жизни Низами не могла быть решающей, коль скоро политическая власть не была централизованной и разноплеменной: Иранским Азербайджаном и Арраном правили Ильдегизиды, по происхождению кипчаки (половцы), соседним Ширваном - иранизированные арабы Кесраниды, считавшие себя наследниками и преемниками сасанидской династии. При том, что в своих поэмах Низами сам обсуждает шаблоны описания идеального государя (собственно, клише лести придворного поэта) и тонко иронизирует над ними, может сложиться впечатление, что тема царской власти ввиду неидеальных обстоятельств эпохи и общей неустойчивости власти была для поэта второстепенной или даже не имела значения.
Но это не так. Если бы эта тема его не занимала, он не избрал бы предметом своей последней поэмы, венца всей «Пятерицы», повествование об Александре Македонском.
Лейтмотив размышлений Низами о царской власти - тема достоинства или недостоинства правителя, духовного совершенства или несовершенства. Искендер - тот самый идеальный правитель, о котором Низами часто размышляет в других поэмах.
Шах Бахрам, главный герой поэмы «Семь красавиц» - правитель, отнюдь не сразу обретающий духовную крепость и зрелость («Семь красавиц» по сути - не только героико-романтический эпос, но и «роман воспитания»). Правители, упоминаемые в притчах поэм (особенно в «Сокровищнице тайн») - сплошь отрицательные дидактические примеры.
Зато Искендер (Александр) буквально рождается совершенным, уравновешенным, всё знающим наперед и готовым следовать всему доброму. Он - то чудо Божие, которым, по чаяниям Низами, только и может быть идеальный правитель. Премудрый Искендер, как его описывает Низами - святой, но не по принадлежности к священной иранской династии Кавиев (Кейанидов), а по Божиему промыслу, дарующему народам мудрого царя, утверждающего веру в Единого Бога. Недаром Низами прямо называет Искендера в поэме «пророком» (глава «О достижении Искендером пророческого сана» во второй книге поэмы). Согласно Низами, Искендер по божественному вдохновению разрушает капища огнепоклонников, посещает Каабу и собирает при своем дворе «семь мудрецов»: Фалеса Милетского (Валиса), Сократа, Платона (Ифлатуна), Аристотеля, Аполлония Тианского (Булинаса), Порфирия (Фарфория) и легендарного Гермеса Трисмегиста (Хормуса), выслушивает их суждения о сотворении мира и подводит итоги беседы в своей речи: «К одному, мудрецы, наш пришел разговор: // Не без Мастера создан вселенной узор». Для Низами как философа-мистика Искендер - исключительно важный образ, и пафос, с которым поэт повествует о великом царе-объединителе в эпоху многоцарствия и разделения, глубоко прочувствован. С другой стороны, наивно было бы думать, что ширваншахи и Великие атабеки Азербайджана были порочны, слабы и некультурны.
Они были сильны и поддерживали при своих дворах ту культуру, в которой возрос Низами. Но они были всего лишь людьми своего времени, а Низами говорит об универсальной богодарованной власти. И конечно же, «Искендер-наме» - не только героический эпос, но и философское сочинение в жанре утопии. Недаром такое место в поэме (свыше десяти глав с учетом всех речей, посланий и рассказов о кончине философов) занимают Платон и неоплатоники.
«Искендер-наме» состоит из двух книг: «Шараф-наме» - «Книга славы» и «Икбал-наме» - «Книга счастья» (или «Книга блаженства»). Исторические и батальные эпизоды в целом сосредоточены в первой книге, фантастические (рассказы о походах Искендера в дальние страны) и религиозно-дидактические - во второй.
Важнейшим вопросом, разрешаемым в первой части поэмы, является проблема translatio imperii - перехода царской власти от иранца Дария к греку-македонцу (румийцу, по Низами) Искендеру. В политико-идеологическом плане эта тема была разработана еще в рамках предшествующего Низами героического эпоса - в «Шах-наме» Фирдоуси. За Низами остается художественное оформление в созданном им новом эпическом стиле, где героика - лишь отправная точка для лирики и философии, в духе собственного «dolce stil nuovo». Кроме того, согласно основной идее поэмы, Искендер мудр и непогрешим. Как сочетать ее с описанием ряда битв и, наконец, убийства Дария? Остроумно обыгрывая смысл имени «Дарий» (персидского «Дара») - «владеющий, богатый», Низами подчеркивает, что Дарий - всего лишь простой богач, тогда как Искендер по самому своему имени - «владеющий миром»: «Да не будет тебе злобный Дарий примером! // Он ведь Дарием назван, а ты - Искендером.» Кроме того, Дарий у Низами наделен отрицательными чертами владык - надменностью, самонадеянностью, злобностью, неумением рассчитывать свои силы, жадностью и т.д.
Дарий - отрицательный дидактический пример, царь, ослепленный гордыней (в духе античного «hybris») и потому обреченный на поражение. Единственным достоинством Дария для Низами является то, что он - иранский царь.
Но Бог предначертал стать царем Ирана иному, совершенному правителю, и Дарий по всем описаниям в поэме воспринимается читателем лишь как досадная помеха на пути этого нового истинного царя. Кстати, уже в первых главах говорится, что Искендер празднует Новруз (ирано-азербайджанский/индоевропейский Новый год, приуроченный к весеннему равноденствию) - то есть еще до завоевания иранского престола он мыслится как «свой», «наш» правитель для Низами и его региона, связанный с обновлением всех стихий. Интересно, что легендарный Ферибурз, сын Кей-Кавуса и тем самым представитель священного царского рода Кавиев, у Низами выступает всего лишь как «воин прославленный» и советник Дария (как известно, принадлежавшего к династии Ахеменидов). Мудрый Ферибурз, владеющий чудесной чашей Джемшида (древнейшего иранского царя, пра-царя из династии Парадата, «данных первыми»), передает Дарию вещание чаши, сохраненное царем Кей-Хосровом (сыном Ферибурза): «Будет царство предельно взнесенным, но вот Его славы созвездье сорвется с высот. Выйдет некий румиец, и капища наши Он повергнет в огонь, - вот вещание чаши, - И возглавит все земли иранские он, И воссядет на кейский сверкающий трон.
Станет царство его всех нам ведомых шире, Но он, мир победив, не останется в мире». Памятник Низами в Баку Дарий, поданный в поэме как аутсайдер иранской истории и мифологии царской власти (а о волшебной чаше Джемшида знали даже самые неученые в аудитории Низами), естественно, перечит Ферибурзу.
Зато Искендер после победы над Дарием первым делом (буквально в следующей главе) разыскивает Ферибурза и внимательно слушает его советы и поучения об управлении Ираном. Таким образом, для Низами важна не физическая принадлежность царя к роду Кавиев (Кейанидов) и не национальная принадлежность, но готовность припасть к истокам, последовать священной традиции и почтить ее, ища мудрости у ее носителей. Как было сказано выше, единственная положительная черта скандалиста и неудачника Дария в поэме - его царский сан. И в описании победы над Дарием и его смерти Низами с большим мастерством берет другую тональность: осуждение злого царя сменяется жалостью к побежденному, причем носителем милосердия выступает сам победитель - Искендер. Он находит Дария на поле боя. Оплакивает падение царя: И склонился к царю, как склоняются к другу, Расстегнул он его боевую кольчугу.
Искендер застонал: «О великий! Близ тебя - Искендер. Пал зачем ты во прах? Почему к твоему я припал изголовью И забрызган мой лик твоей царскою кровью?» Этот вопрос Искендера, казалось бы, выглядит странно - как «почему»?
Разве цель Искендера - не убийство Дария? Оказывается, что нет. Для Искендера важна победа, а убивать царя Ирана он не хотел. Да и нападать на Дария, согласно Низами, Искендер не собирался - это занесшийся сверх меры иранец потребовал дань с великого воителя. Премудрый Искендер лучше Дария понимает ценность царской власти. Памятник Низами в Москве Искендер же еще до царского пира выдает из казны награду убийцам Дария как членам своего войска, а затем велит казнить их: Он убийцам сокровища дал из казны. Он велел, чтоб и деньги им были даны.
Всё вручили им тут же. Властителем света Исполнялось незыблемо слово обета, Но затем он велел их связать и вести К месту казни. Глашатай на смертном пути, Обходя все войска.
Возглашал: «Вот отмщенье За убийство царя! Нет убийцам прощенья!
Кто подобным преступникам будет сродни, Так закончит свои недостойные дни. Не простится царем никогда, ни единым Раб, взмахнувший мечом над своим господином!» Таково отношение совершенного правителя - Искендера - и самого Низами Гянджеви к цареубийству. Что же предпринимает Искендер, взойдя на священный иранский престол? Прежде всего - по просьбе народа восстанавливает повсюду исконный порядок, попранный во время безответственного правления Дария.
Низами Гянджеви Искандер Наме Скачать
«Промысла и ремесла дошли до распада. Чья же воля была этой горести рада? Ведь ремесленник бросил свое ремесло, Чтоб другое довольство ему принесло. Обитатель пустыни стал равным вельможе, Царский сын - пастухам, что ему непригоже.» (Таково отношение Низами к демократии.
При этом, заметим, нигде ни слова упрека в сторону смешения племен и обычаев. Полная культурная открытость при условии соблюдения законов). «.Земледелец стал воином; воин пристал К земледелью и плугом орудовать стал. Беспорядок весь край нащ разрушил бы смело, Если б кинули все им присущее дело. Если наш судия преисполнился зла, И планета в такое расстройство пришла, - То теперь судия воцарился победный, И восставит он строй на земле нашей бедной». Призадумался царь, и глашатаям он Повелел разгласить новозданный закон: «Пусть свое ремесло знает люд ремесловый, Только зло он чинит, труд воспринявши новый.
Сигнализация sheriff 7000hhu инструкция. Сигнализации SHERIFF - инструкции, схемы, описание.
Пусть в ярмо земледелец впрягает вола И за плугом забудет иные дела. Пусть бойцы остаются в их воинском стане. Пусть привычным занятьем живут горожане. Пусть любой своим делом займет свои дни, Пусть свершает он всё, что свершал искони». Всех вернул Искендер в потрясенном Иране К их ремеслам, к занятьям, им ведомым ране. Так людей отведя от смятенья и зла, В равновесье привел он земные дела.
Так весь мир, с пепелищем столь схожий порою, Он к устройству привел и к размерному строю. Благоденствие мира поддерживал он. Делать благо для мира - премудрых закон.
Искендер со своим «новозданным законом» лишь восстанавливает то, что было «искони»: мировой закон, древнеиндийское «рита» (ср. Латинское ritus «установленный обряд», «ритуал»), иранское «Аша», в честь которого и горели в древнем Иране священные огни зороастрийцев.
Искендер у Низами - юный (и вечно юный, ибо умирает молодым) царь-охраиитель и обновитель мирового порядка, царь Новруза, индоевропейского и ирано-азербайджанского новолетия. Но Низами живет в новую эпоху. Мир изменился после Рождества Христова, языческие алтари пали и в «Руме», и в Иране. Искендер у Низами выступает как носитель и поборник истины, даже дракон на его знамени - не колдовской морок, а «истинный дракон». Поэтому второе повеление Искендера как царя Ирана - разрушение капищ огня и упразднение сословия магов.
И весьма важно, что единобожие, исповедуемое Искендером, названо у Низами старой верой, общей для всех народов и их праведного царя: Чтобы всюду восставили старую веру, - Ту, что светом была самому Искендеру. Памятник Низами в Санкт-Петербурге Венцом деяний Искендера, по Низами, является постройка железного вала, для вечного ограждения земных племен от народа яджудж и посещение прекрасного края и города в северных пределах, где царит мир и изобилие (всюду цветут сады, бродят никем не охраняемые стада, на дверях нет замков, никто не умирает молодым и т.д.).
Говоря иными словами, защита людей от земного ада и соприкосновение с земным раем - последняя двуединая миссия Искендера. Встретив племя нелюдей, Искендер проявляет себя как мифологический культурный герой, ограждающий землю от чудовищ. После этого подвига ему некого обуздывать. Равным образом, после посещения города праведников ему больше нечего искать на земле и не к чему стремиться: «Умудренных людей встретив праведный стан // Искендер позабыл свой пророческий сан.». Искендер находит место, где истина не требует утверждения царским законом, но существует самостоятельно, покоится в своем сиянии. Идеал государства (как говорилось выше, утопический) достигнут.
Последнее двойное деяние Искендера является исполнением и упразднением его земного призвания. Смерть Искендера в поэме так же совершенна, как его жизнь.
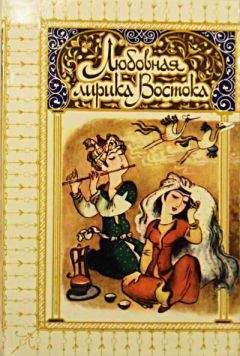
В возрасте тридцати шести лет царь заболевает, перед смертью не забывает отослать прощальное письмо матери, взывает о помощи к любимым философам, смиряется перед богоустановленным законом («В черный прах погрузится мой черный престол, // Дух мой к светлым взлетит, в их лазоревый дол») и, обратив к матери (по толкованию Низами, ко всему миру) последние слова, умирает. Его наследник - сын Искендерус- отрекается от престола, сознавая, что не сможет ни превзойти отца, ни даже уподобиться ему. «Как свободный владелец свободной души», царевич всецело посвящает себя Богу и становится отшельником: И царевич в нагорную скрылся обитель, И забыл о мирском этот неба служитель.
Дни он Господу отдал - не смертным делам. Только это и ведомо нам. Власть истинного царя, таинственно пришедшая от Бога и восстановившая в мире божественный закон, столь же таинственно уходит к Нему. Гаснет светоч истины, умирают философы - все семь мудрецов, один за другим. И рука сына Низами записывает строки, посвященные кончине восьмого мудреца - Хаким Ильяса ибн-Юсуфа Низами Гянджеви, навсегда оставшегося в сонме советников Праведного Царя. Есть и более длинные официальные формы, включающие имена предков поэта, например: Хаким Джамал аль-дин Абу Мухаммад Ильяс ибн-Юсуф ибн-Заки ибн-Муайад Низами. Сохранились 154 стихотворения, но это лишь небольшая часть лирической поэзии Низами.
Стеблин-Каменского о поэзии скальдов. См.: Стеблин-Каменский М. Труды по филологии.
Труды академика Е. Многие рукописи Е. Бертельса, в числе которых были переводы Низами в прозе, погибли в блокадном Ленинграде.
Мистическое течение в исламской среде, сформировавшееся под значительным влиянием местных религиозно-мистических традиций (Персия, Закавказье и Кавказ, Средняя Азия, Индия). Суфий - аскет, стремящийся к очищению сердца и привития похвальных качеств духу. Суфии стремятся к единению с Богом посредством экстаза. Несомненно влияние христианской мистики на становление суфизма как в духовных основах, так и в некоторых особенностях организации и ритуала (монашество как образец общины дервишей, смена черных облачений на белые во время ритуальной пляски-кружения, понимаемого как служение Богу и единение с Ним). Здесь и далее поэмы Низами цитируются по изд.: Низами Гянджеви. Собрание сочинений в трех томах. Баку: «Азернешр», 1991.
Липскерова, В. Державина, Т.
Стрешневой, С. Шервинского (в соавторстве с К. Это слово происходит из пехлеви (литературного языка Персии эпохи Сасанидов; III-VII вв. Но, возможно, название города произведено от этнонима «ганджаки» (название одного из племен на территории Азербайджана). В средневековой персидской поэзии тюрки - символ белизны, тюркские глаза - «красивейшие в мире». Тюрки-кипчаки были светловолосыми и светлоглазыми, чем обусловлено их древнерусское название «половцы», происходящее от слова половъ - «светлый», «светло-желтый» (ср. Название пустой соломы - полова).
Искендер у Низами, еще только собираясь войной на Дария, уже готов разрушить капища огнепоклонников в Иране. В Коране упоминается пророк, древний завоеватель Зуль-Карнайн (что означает «Двурогий»), во время своих походов построивший для защиты народа, жившего между двух гор, железную стену для защиты от племен яджудж и маджудж (см. Эта фигура была отождествлена в средневековой мусульманской традиции с Александром Македонским. Зуль-Карнайн стало традиционным прозвищем Искендера (так и у Низами), хотя существовали и другие отождествления. Фалес Милетский (ок.
До н.э.) - первый исторически известный представитель древнегреческой философии. В античной традиции - один из «семи мудрецов» (перечень которых приводится еще в платоновском диалоге «Протагор» и, разумеется, включает лишь имена древних греков - предшественников Платона). В «Искендер-наме» Низами воспроизводит саму идею перечня «семи мудрецов» (известного и в древнеиндийской культуре; «Книга о семи мудрецах» сложилась в Индии и в различных переработках была известна в Средние века в Персии, на Блжинем Востоке, в Византии и Западной Европе). На самом деле упоминаемые Низами знаменитые философы жили в разное время. Аполлоний Тианский (ум. В возраста около ста лет) - философ-неопифагореец, математик, много путешествовавший по Малой Азии и даже проникший в Индию. Легенды о нем как маге были широко распространены на Востоке.
Порфирий Тирский или Финикийский (настоящее имя Малх или Мелех; 232 - 304) - крупный позднеантичный философ-неоплатоник, ученик Плотина и издатель его сочинений. Математик, теоретик музыки, астроном, астролог. Критик христианства. Разумеется, Сократ, Платон и Аристотель жили задолго до него. Гермес Трисмегист («Трижды величайший») - легендарная фигура. Божество, соединившее в себе черты Гермеса (Меркурия) и древнеегипетского бога мудрости Тота, в позднеантичной традиции стало воплощением философского авторитета и эзотерического знания.
Позднеантичные авторы считали Гермеса Трисмегиста реальной личностью: Лактанций называл его одним из языческих провидцев, предсказавших приход Христа, блаженный Августин считал, что Гермес древнее греческих мудрецов, но моложе Моисея, Климент Александрийский упоминает 36 книг Гермеса и т.п. В позднеантичной и средневековой традиции ходило множество сочинений (трактатов на латыни), приписываемых Гермесу Трисмегисту и по имени его называвшихся герметическими (отсюда происходит и термин «герметизм»).
На самом деле форма «Дарий» происходит от иранского «Дараявауш», что означает «добронравный», а греческое «Александрос» означает «отражающий мужей», «победитель мужей». Но для Низами существенна та этимология имен, которую он предлагает в поэме. О священном ореоле и воплощении царской власти - «хварне Кавиев» - см. Что естественно в многоплеменном Азербайджане и Иране XII. Роушенек, Ровшана (от авестийского «Раохшна» - «Светлая»), в античной традиции Роксана (ок. 342 - 309 гг. До н.э.) - бактрийская царевна (Бактрия - восточная часть Персидской империи, современные территории северного Афганистана, южные области Таджикистана и Узбекистана), дочь местного вельможи Оксиарта, а не персидского царя Дария.
Ветхозаветные Гог и Магог (Книга пророка Иезекииля, гл. Постройка железной стены Зуль-Карнайном для защиты от племени яджудж и маджудж упоминается в Коране. В «Искендер-наме» говорится, что железный вал, воздвигнутый Искендером, будет стоять до Судного дня. В западноевропейской традиции государство пресвитера Иоанна, где царит всеобщий мир, располагается далеко на востоке.
Но Низами сам находится на востоке (и юге) и потому помещает вымышленную страну праведных на севере, что соответствует иранским мифологическим представлениям о прекрасной земле с тучными пастбищами, прародине ариев-иранцев - Арьяна Вэджа, «арийский/иранский простор». Яджудж» у Низами - чудовища (джинны, дивы). Оба эти деяния описаны в одной главе. Александр - сын Александра Македонского от Роксаны (Роушенек). Он родился через месяц после смерти отца и был немедленно провозглашён царём и соправителем своего дяди, Филиппа Арридея в 323 г.
Укрепившийся в Македонии тиран Кассандр казнил 14-летнего Александра и его мать Роксану. Тела их тайно предали земле, и македонцы не скоро узнали о гибели своего юного царя. Возможно, судьба юного Александра не была известна Низами в деталях, в то время как поэту нужно было объяснить, почему сын Александра не стал царем после отца.
Тот, кто царственной книгой порадует вас, Так, свой стих воскрешая, свой начал рассказ: Был властитель румийский. Вседневное счастье К венценосцу свое проявляло участье. Это был всеми славимый царь Филикус.
Услужал ему Рум и покорствовал Рус. Ионийских земель неустанный хранитель, В Македонии жил этот славный властитель. Он был правнук Исхака, который рожден Был Якубом. Края завоевывал он.
Чтил все новое, думал о всем справедливом, — И с овцой дружный волк был в те годы не дивом. Так он злых притеснял, что их рот был закрыт, Что повернул он Дария в зависть и в стыд. Дарий первенства жаждал, и много преданий Есть о том, как с царя он потребовал дани, Но румиец, правленья державший бразды, Предпочел примиренье невзгодам вражды: С тем, которому счастье прислуживать радо, В пререканье вступать неразумно, не надо.
Он послал ему дань, чтоб от гнева отвлечь, — И отвел от себя злоумышленный меч. Дарий — был ублажен изобилием дара.
Царь — укрыл нежный воск от палящего жара Но когда Искендера година пришла, По-иному судьба повернула дела. Он ударил копьем, — и, не ждавший напасти, Дарий тотчас утратил всю мощь своей власти Старцы Рума составили книгу свою Про отшельницу, жившую в этом краю. В день, когда материнства был час ей назначен Муж был ею потерян и город утрачен. Подошел разрешиться от бремени срок, И мученьям ужасным обрек ее рок. И дитя родилось. И, в глуши умирая, Мать стонала. Тоски ее не было края: «Как с тобой свое горе измерим, о сын?
И каким будешь съеден ты зверем, о сын?» Но забыла б она о слезах и о стоне, Если б знала, что сын в божьем выкормится лоне И что сможет он власти безмерной достичь И, царя, обрести тьму бесценных добыч. И ушла она в мир, непричастный заботам, А дитяти помог нисходящий к сиротам. Тот ребенок, что был и бессилен и сир, Победил силой мысли все страны, весь мир. Румский царь на охоте был вмиг опечален, Увидав бедный прах возле пыльных развалив О беспомощность!
К женщине мертвой припав, Тихий никнет младенец меж высохших трав, Молока не нашедший, сосал он свой палец, Иль, в тоске по ушедшей, кусал он свой палец. И рабами царя — как о том говорят — Был свершен над усопшей печальный обряд. А ребенка взял на руки царь, — и высоко Приподняв, удивлялся жестокости рока.
Взял его он с собой, полюбил, воспитал, — И наследником трона сей найденный стал. Все же в древнем дихкане была еще вера В то, писал он, что Дарий — отец Искендера. Но сличил эту запись дихкана я с той, Что составил приверженец веры святой, — И открыл, к должной правде пылая любовью, Что к пустому склонялись они баснословью. И постиг я, собрав все известное встарь: Искендера отец — Рума праведный царь. Все напрасное снова отвергнув и снова, Выбирал я меж слов полновесное слово. Повествует проживший столь множество дней, Излагая деянья древнейших царей: Во дворце Филикуса, на царственном пире Появилась невеста всех сладостней в мире.
Был красив ее шаг и пленителен стан, Бровь — натянутый лук, косы — черный арка! Словно встал кипарис посреди луговины. Кудри девы — фиалки, ланиты — жасмины. Жарких полдней пылала она горячей Под покровом ресниц мрело пламя очей. Ароматом кудрей, с их приманкою властной, Переполнился пир, словно амброю страстной. Царь свой взор от нее был не в силах отвлечь, Об одной только дивной была его речь. И в одну из ночей взял ее он в объятья, И настал в жаркой мгле миг благого зачатья.
Словно тучей весенней повеяла мгла И жемчужину в глуби морской зачала. Девять лун протекло по стезям небосклона, Плод оставил в свой час материнское лоно.
В ночь родин царь велел, чтоб созвал звездочет Звездочетов, — узнать, как судьба потечет, Чтоб открыл ему тайну, чтоб в звездном теченье Распознал звездных знаков любое значенье. И пришел предсказателей опытных ряд, Чтоб вглядеться в тот мир, где созвездья горят. И, держа пред собой чертежи и приборы, На движенья светил старцы подняли взоры.
В высшей точке горело созвездие Льва, На предельный свой блеск обретая права. Многозвездный Овен, вечно мчащийся к знанью, Запылав, устремился от знанья к деянью, Близнецы и Меркурий сошлись, и, ясна, Близ Тельца и Венеры катилась луна. Плыл Юпитер к Стрельцу.
Викисклад
Высь была не безбурна. Колебало Весы приближенье Сатурна.
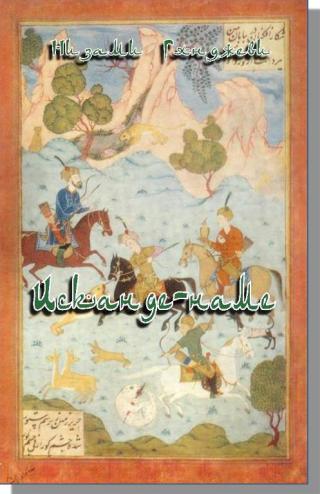
Но воинственный Марс шел и шел на подъем И вступил в свой шестой, полный славою, дом. Что ж мы скажем на то, что явили созвездья? Небу — «Слава!» Завистникам — «Ждите возмездья Не дивись же, что звездным велениям в лад Из ростка распустился невиданный сад. Звездный ход был разгадан по древним примерам,— И пришедшего в мир царь назвал Искендером. Ясно старцам седым семь вещали планет, Что возьмет он весь мир, что преград ему нет. Все сказал звездочет обладателю Рума, Чтоб ушла от владыки тревожная дума. В предвкушении благ, славой сына прельщен Казначея призвав, сел владыка на трон.
В светлом сердце царевом тревоги не стало, И просящим он роздал сокровищ немало. Славя Месяц душистый, надежд не тая, Пил он сладкие вина в саду у ручья. Дай мне, кравчий, с вином сок целительных трав: Хоть стремился я в рай, пил я горечь отрав! Иль всплывет мой челнок, верный путь выбирая, Иль пойду я на дно и достигну я рая. И подрос кипарис, и негаданно рано Встал на ножки, ступая красивей фазана.
Он из люлечки к луку тянулся; к коню Он с постельки бросался, подобный огню. У кормилицы стрел он просил, и в бумагу Или в шелк он стрелял. Проявляя отвагу, Вырос крепким, и, отроком ставши едва, Выходил он с мечом на огромного льва. И в седле властно правил он, будто заране Он бразды всего мира сжимал в своей длани. Отвергающий алчности шумный базар, Принимает весь мир, как живительный дар. Он достаток найдет, — нет блаженней удела, Чем нести мерный труд ежедневного дела. Будет радость ему долгим веком дана, Если сдержит он ход своего скакуна.
Он добро расточать не желает без счета И не ведает скупости вечного гнета. Все жалеть — это жить в тесноте и с трудом. Ничего не жалеть — бросить в печку весь дом.
Делай благо себе и родимому дому Только так, чтоб не делать плохого другому. Летописец дихканов из книги о них Взял рассказ, — и его я влагаю в свой стих. Филикус, осененный судьбою удачной, Разодевший все царство в наряд новобрачный, Мудрым сыном был горд; был обрадован он Тем, что честью владык Искендер наделен, Что в очах Искендера сиянье блистало То, которым блистать его сану пристало. Всех достойных отцов тем гордятся сердца, Что достоинства сына достойны отца. «За науки, мой сын! Высшей ценности камень Только после граненья проявит свой пламень».
Никумаджис премудрый — а был он отцом Аристотеля — начал занятья с юнцом. Сердце отрока речи премудрой внимало, И наук изучаемых было немало. Строй всех царственных дел, изощренность искусств, — Все для силы ума, для подвижности чувств.
Царский сын привыкал к тем наукам служенью, Размышленье над коими — путь к постиженью. Мудрый старец жемчужину мира повел В полный славы всезвездной возвышенный дол.
Он открыл ему высшее. Много ли встретим Тех, кому довелось открывать это детям? Целый год достославный царевич свой слух Лишь к наукам склонял; был он к прочему глух. Острым разумом в глуби наук проникая, Он блистал, острословьем людей увлекая. Аристотель, с царевичем вместе учась, Помогал ему; крепла их братская связь. Были знанья отца не к его ли услугам?
И делился он ими с внимательным другом. Никумаджис-наставник увидеть был рад, Что рассудок царевича — блещущий клад, И усилил старанье он в деле науки,— Ведь сокровища клада дались ему в руки! Видя небом царевичу данный указ, Он проник в него зоркостью пристальных глаз. Пожелав, чтоб и сын упомянут был тоже В том указе, который всех кладов дороже, — Вместе с сыном вступил он под царственный кров С речью важной и полной пророческих слов. «Ты взрастешь до небес и тебе станет ведом Путь на быстром коне от ученья к победам. Всех неправых мечом ты заставишь молчать, Ты свою в целый мир скоро вдавишь печать.
О державе твоей будут сонмы преданий, Семь кишверов тебе вышлют пышные дани. Все державы земли сделав царством одним, Применшь в руки весь мир, вечным счастьем храним. Вот тогда-то припомни былые уроки, Жадность брось — от нее все иные пороки. Почитая меня, с моим сыном дружи, Ты почтенье свое и ему окажи. Согласуй с его мненьем дела своей славы, Ибо мудрый советник дороже державы.
Ты — счастливый, а в нем — верных знаний полет. Для счастливого знающий — лучший оплот. Там, где ценится знанье, — недремное счастье Тотчас в звездах правителя примет участье. И удача, сверкая, умножит свой свет, Если примет от мудрости должный совет. Чтоб достигнуть луны многославным престолом, По ступеням науки всходи ты над долом». И царевич дал руку учителю в знак, Что он выполнит все. И он вымолвил так: «Верь, лишь только свой трон я воздвигну над миром Сын твой будет моим неизменным везиром.
Я советов его не отвергну, о нет! Размышляя, приму его каждый совет». Когда для него стало царство готово, Искендер, воцарившись, сдержал свое слово. Разгадал Никумаджис — глава мудрецов, — Что дитя это сломит любых гордецов, И чертеж ему дал, — тот, в котором для взора Были явственны знаки побед и позора. «Все, — сказал он, — исчисля, вот в эти лучи Имя вражье и также свое заключи. В дни войны ты все линии строго исследуя, Узнавая, чей круг обозначен победой.
Увидав, что врагу служат эти черты, — Устрашайся того, кто сильнее, чем ты». Мудрый труд почитая услугой большою, Взял чертеж Искендер, с благодарной душою. И в грядущем, средь бурных и радостных дней, Он заранее знал о победе своей. Так он жил, преисполнен огня и терпенья, И котлы всех наук доводил до кипенья. И затем, что он к мудрости был устремлен, О всех старцах премудрых заботился он. В деле каждом считался он с мастером дела, — Потому-то удач и достиг он предела.
А царевича сверстник, наперсник и друг Изучал всех искусств обольстительный круг. Очень ласковым был он всегда с Искендером, В дружелюбье служа ему должным примером.
И не мог без него Искендер повелеть Даже слугам на вертел насаживать снедь. К Аристотелю шел он всегда за советом, Все дела озарял его разума светом, И над высями гор продолжал небосвод Свой извечный, крутящийся, медленный ход, И ушел Филикус из пристанища праха, И наследного свет заблистал шахиншаха. Что есть мир? Ты не чти его смертных путей.
Уходи от его кровожадных когтей. Это древо с шестью сторонами четыре Держат корня.
Мы, пленники, распяты в мире. Веют вихри, и листья на дереве том Увядают, — и падают лист за листом. Любование садом земным скоротечно. Нет людей, что в саду оставались бы вечно.
И взрастают посевы своею чредой. Всходит к небу один, смотрит в землю другой. Ты желаешь иль нет, — здесь не будешь ты доле, Чем другие. Не думай о собственной воле! У людей своевольных — так было досель — На базаре воры вырезают кошель. Ты у мира в долгу — всех гнетет он сурово. Отдай ему долг и уйди от скупого.
Шорник шел с кузнецом. Их задача была Получить старый долг от больного осла. Сбросил серый седло со спины своей хилой, С ног подковы стряхнул с неожиданной силой.
Реалистический
И, свободно дыша, все отдавши долги, Отдохнул. Так же себе помоги!
Низами Гянджеви Искандер Наме Читать
Пылен путь бытия. Без печали и страха Кинь свой долг и уйди от пылящего праха.